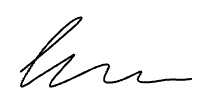«Мне снятся ваши черные усики»: Сталин и «Дни Турбиных»

Существует версия, что Сталин смотрел мхатовскую постановку «Дни Турбиных» пятнадцать, а то и двадцать раз. Трактовать столь сильный интерес вождя к ностальгическому произведению писателя, бывшего человеком абсолютно несоветской выделки и фактуры, можно до бесконечности. Я тоже не поленилась, включила машину воображения и нашла свой, привлекательный, вариант.
Конец 1918 года. Киев. В город приходит Петлюра, за ним вот-вот ворвутся большевики. В центр фабулы Булгаков помещает семью русских интеллигентов и их друзей. Несмотря на безумствующий ураган Гражданской войны, они сидят в уютной квартире при мягком свете лампы, ведут тонкие разговоры, философствуют, — возводят невидимую глазу ширму между двумя мирами — их, изящным и аристократическим, и обезумевшей, ревущей улицей, где раздаются выстрелы, работают моторы черных воронков, а люди озверевают от вида крови и легко произносят слово «расстрелять». На фоне разбоя, насилия, ломки прежнего уклада жизни, Турбины и их друзья прощаются с привычным миром, со всеми его надеждами и иллюзиями: хоронят Россию, которая никогда уже больше не повторится. По крайней мере, не в их судьбах точно. Останется только эмигрантская жизнь где-нибудь в Париже да Берлине, где интеллигенция попытается по кусочкам собрать дореволюционную Россию, свой особый, замкнутый микрокосм, который еще мечтается перенести в Россию социалистическую, когда большевики одумаются, а народ «образумится». На такое развитие событий еще надеялись, о таком мечтали и даже почувствовали некое воодушевление, когда наступил НЭП со всеми его экономическими послаблениями, а рука, сжимающая страну за горло, немного ослабила хватку: «недобитые» буржуи возрадовались, вынули из тайников бриллианты и котиковые манто, а некоторые из старых большевиков пустили пулю в лоб, не простив партии предательства: «За что же мы боролись, если все стало как прежде?».
И вот эти-то люди, которых описал Булгаков, с их тонкими чувствами, благородством и воспитанием, у которых есть твердое представление о чести и совести, оказались повержены революцией и последовавшей за ней Гражданской войной. Возможно, Сталин, смотря эту постановку, испытывал нечто, сродни удовлетворению: «Вот вы такие тонкие и нежные, такие интеллигентные и воспитанные, все на что-то надеялись, а мы взяли и уничтожили и вас, и ваш мир». Вступая в полумрак интерпретаций, очень тяжело не сорваться в сентиментальность и не «напичкать» исторического персонажа своими смыслами, но не могу не поддаться обаянию замысла.
Чтобы урвать билет на «Дни Турбиных», люди выстраивались к кассе глубокой ночью; как писал Булгаков, когда после опалы и личного разрешения Сталина в 1932 году, спектакль возобновили, на премьере занавес давали целых двадцать раз. Зрители, среди которых были и белые офицеры (немногие из тех, что не эмигрировали и не были убиты во время революции и Гражданской, пока еще живы, их еще только начали расстреливать и ссылать) плакали, глядя на актеров, которые «белели под гримом» и смотрели глазами «замученными, настороженными и выспрашивающими». Глядя на этих людей — персонажей на сцене и интеллигенцию в зрительском зале, Сталин мог чувствовать наслаждение художника, рассматривающего законченную им картину; радость демиурга, оглядывающего свое творение.
Впрочем, можно и упростить: постановка была действительно великолепной (худруком тогда был К. С. Станиславский) актерская игра — непередаваемой (Сталин говорил актеру Николаю Хмелеву: «Хорошо играете Алексея. Мне даже снятся ваши черные усики. Забыть не могу»), чего же удивляться, что Сталин, особенно интересовавшийся литературой и театром, неоднократно смотрел булгаковскую вещь? Смотрел, и видел людей, которые превращались в воспоминание, в вымирающую породу, на смену которой приходил человек принципиально новой формации. Его, кстати, очень хорошо описал Олеша в своей «Зависти»: «человек-машина, гордый от работы», который должен избавиться от сентиментальности чувств и идти только вперёд. Результаты превзошли самые экстремальные чаяния. И здесь очень хорошо Бунин написал: «Весь адский секрет большевиков — убить восприимчивость. Люди живут мерой, отмерена им и восприимчивость, воображение, – перешагни же меру. Это — как цены на хлеб, на говядину. «Что? Три целковых фунт!?» А назначь тысячу — и конец изумлению, крику, столбняк, бесчувственность. «Как? Семь повешенных?!» — «Нет, милый, не семь, а семьсот!» — И уж тут непременно столбняк — семерых-то висящих еще можно представить себе, а попробуй-ка семьсот, даже семьдесят».