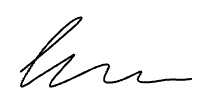Литература про большинство

Сегодня день рождения Михаила Зощенко — писателя, попавшего по недогляду советского литературоведения в ряд юмористов и сатириков.
Если прочесть сначала Тэффи, потом Аверченко, закусить стихами Саши Чёрного и на десерт проглотить трикстерский роман о стульях Ильфа и Петрова, станет очевидно, что Зощенко не сатирик, и, конечно, не юморист.
Вспомните, как в литературе 1920-х годов относились к «обычным» людям (то есть большинству, к массе) писатели и поэты. Маяковский называл их «обывателиус вульгарис», проклинал за стремление к комфорту и тихой жизни, «лишними» людьми в прозе и стихах были теперь не чиновники и обыватели, а интеллигенты, как тонко подметил Олеша в «Зависти», героями и примером для подражания — сверхчеловеки из пекла Гражданской войны и революции; борцы, которые личному счастью предпочитают общечеловеческое и считают пошлостью мечтать о тёплой ванне. И таким образом обычным людям — тем, кто охотится за контрамаркой в театр, чтобы увидеть на сцене знаменитость, любит мелодраматическое кино и стоит в очередях за продуктами, — не нашлось места на страницах советских романов и рассказов.
Михаил Зощенко дал улице возможность выговориться и рассказать о себе. Пока писатели-идеалисты ждали, что революция 1917-го произведёт антропологический переворот, призывали людей к «сознательной» жизни и ни в коем случае не опускаться до быта, Зощенко записывал разговоры в очередях, вслушивался в чаяния обитателей коммуналок и фиксировал, как меняется ткань, из которой соткано бытие. И если внутренняя и социальная жизнь людей в изложение писателя кажется смешной и анекдотичной, в Зощенко ли дело?