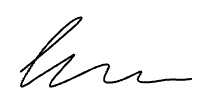Ялтинское лето
Где-то в Ялте, может, в 1925-м, а может и в 1931 году, попивая содовую с соком, за крохотным столиком в кафе сидели двое. Она, по моде тех лет, коротко стриженная, в белой юбке клинышками и папиросой в зубах, смотрела на мерно колышущееся море. Он, высокий, плотно сбитый, с азиатским разрезом глаз, щурясь на солнце, любовался её загорелым лицом и мучительно пытался вспомнить слова песни, под которую они минувшей ночью кружились на веранде ресторана.
... Резкий разворот, рука всё крепче сжимает спину партнёрши, быстрая перебежка шагов, ведущая чуть ближе к оркестру и его оглушающему шуму, и опять — поворот, три мелких шага назад, и можно чуть-чуть передохнуть, качая под ленивый голос саксофона тонкое тело, перетянутое бархатной тканью. В сумерках, под теплым светом ламп и свечей, кожа женщин кажется золотой, а шампанское, льющееся в бокалы — жидким янтарем, который скользнув в глотку, пощекочет его изнутри и разольет по телу приятную усталость.
Под пальмами, расставленными по углам веранды, скрылись от любопытных глаз длинноногие создания и их спутники: сегодня они галантные кавалеры, а назавтра — звери с маузерами, пришедшие с арестом в дом к тем, кого сейчас ласкают руками и восторженно заглядывают в глаза. Гадость. Гадость. Ночь приносит не только избавление от жары, но и прикрывает своим густым полумраком лицо всякого, кто захочет притвориться на несколько часов другим человеком; переливающимся гранями осколком той жизни, что навсегда уничтожена революцией, войнами, голодом, самоубийствами, доносами, наветами и вечным страхом, в котором они живут последнее десятилетие...
... — Смотри, парусник, — от сигареты, зажатой между пальцами, идет густой дым, от которого становится ещё жарче — Покатаемся на нем?
Покатаемся, — ответил он про себя, подзывая жестом официанта, мелькавшего среди кустов с ярко-алыми цветками, которые кровью струились по ступенькам к беседке, увивали её, брызгали дальше по склону и горели издалека сигнальными огнями, беспокоя и мучая раздраженное зноем сознание. Он снова и снова поворачивал голову, чтобы посмотреть на цветы, и чувствовал, как к затылку мощной волной подкатывает боль, спускается на лоб, заливает глаза черным, и липким холодом разливается по телу, от чего пальцы дрожат противной мелкой дрожью.
Что-то было не так. Это не было ощущениями, вызванными похмельем, или тревогой, испытываемой горожанином, приехавшим на море и ещё не успевшим избавиться от привычек, которые прорываются в постоянной слежке за часовой стрелкой, или ожиданием, что вот-вот раздастся настойчивый и наглый звонок телефона, — все эти нервические жесты человека, обезумевшего от городской лихорадки, и неожиданно получившего передышку. Здесь было ощущение грядущей катастрофы, которая издалека заявила о себе тревожным красным цветом, застывшим на фоне бирюзового моря и темных камней, старательно вылизанных соленой водой.
Он шумно вздохнул, улыбнулся сидящей напротив девушке и пробормотав, что хочет освежиться, поспешно встал, словно боясь, что она его остановит или захочет пойти вместе с ним. Девушка, откинув голову и приподняв бровь, внимательно посмотрела на него, и не обнаружив повода для волнения, кивнула:
— Присоединюсь к тебе позже. Сейчас не самое лучшее время для купания.
Мощным ударом море било о скалы, заползало в щели между ними и шумливой пеной возвращалось обратно, прихватив с собой тину и оброненные кем-то очки. Он представил, как человек, близоруко щурясь, долго вглядывался в воду, силясь найти пропажу, а затем безнадежно вздохнув, пошел прочь, надеясь, что не забыл положить в чемодан запасные очки.
Солнце безжалостными лучами опаляло лежащих на песке людей и оставляло на щеках веснушки — эти рыжие и желтые отметины лета, которые через несколько месяцев смоет московскими дождями и ежедневным умыванием. Погрузившись в спасительную прохладу воды, он энергично поплыл в сторону сияющего вдали парусника, стараясь сильными и быстрыми движениями затолкнуть внутрь себя боль, которая с каждой секундой становилась всё невыносимее.
Чувствуя, как гулко колотится сердце, как оно становится слишком большим для вмещавшей его грудины, он прекратил движение, чтобы перевести дух и попытался нащупать ступнями песчаное дно, которое словно решив посмеяться над ним, уходило всё дальше и дальше от бестолково мельтешащих в воде ног... Поняв, что заплыл слишком далеко и ощущая, что к нему подкрадывается неудержимая, звериная, паника и крепкой рукой сжимает за горло, он перевернулся на спину и чувствуя, что не может больше вдохнуть воздух, начал беззвучно открывать рот, не то пытаясь найти губами кислород, не то закричать о помощи.
Голоса, доносившиеся с пляжа неожиданно замолкли, рядом не было ни одного купающегося, парусник уплыл за горизонт, и всё, что осталось вокруг, было только водой, не хотевшей отпускать его и втягивавшей в себя каждое движение, действуя заодно с болью, которая изнутри раздирала голову на кровавые лоскуты и застилала взгляд мутной пеленой. Сквозь неё изредка показывался ослепительный диск солнца, наблюдавшего, как его руки беспомощно сопротивляются воде, а тело, тяжелея с каждой минутой, отказывается подчиниться и неминуемо уходит на дно...
Он снова открыл рот и попытался закричать, но почувствовав, что не в силах издать ни одного звука, подчинился боли и неожиданно перестав вспенивать руками морскую воду, погрузил в неё лицо с широко распахнутыми глазами. Из какого-то-то призрачного далёка, где играет джаз-оркестр, женщины сверкают обнаженными плечами и подчиняясь мужчинам, скользят в вихре музыки, до него донеслись знакомые слова, которые он настойчиво пытался вспомнить, сидя за столиком с загорелой коротко стриженной девушкой.
Они уже не имели значения, не могли спасти его, не приближали к берегу и не давали сил, которые помогли бы разгрести руками воду, но они волновали и душили слезами, качая в такт напеву равнодушное синеглазое море: «Вы плачете, Иветта, что наша песня спета, а сердце не согрето без любви огня»...