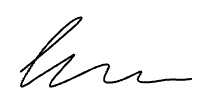Греческий день

В тот день я четыре часа провела на катере — узком как пирога, беспарусном и скоростном. Я то правила сама, то купалась в слёзного цвета воде — окружённая белыми нехожеными скалами, она трепетала под мотором, облизывала корму и камни, шершавые от времени и скользкие от водорослей.
Дул фён, солнце становилось нестерпимым и я надевала панаму, наблюдая из-под щекочущей бахромы полей как напрягаются мускулы на твоих руках, как ловит свет загорелая скула, каким ты смотришься счастливым и радужным в сиянии налипших на кожу кристаллов соли.
Иногда наш катер обгоняли другие лодки, и мы с напускным пренебрежением наблюдали как нас обходят, с притворным непониманием поглядывали на приборную панель, а потом, без сговора и обсуждений, переводили ручку вперёд и мчались фордевиндом вперёд, оставляя за спиной и людей, и скалы, и кустарники на них, которые теперь, как на пущенной в аппарат киноплёнке, бежали друг за другом и в то же время оставались неподвижными.
И случились в тот день стаи летучих рыб — по жюль-верновски они взмывали над волной, отражая влажными плавниками её глянцевый блеск, и пещера — гулким эхом отдающая восторженный возглас человека, и яхты, и страх перед беспощадной глубиной, и радость — без краёв и пределов, как в детстве, когда не боишься спугнуть ощущений, и из ниоткуда, но с совершённой уверенностью знаешь, что завтра будет ещё лучше, а о послезавтра и раздумывать не нужно: точно всё получится и сладится.
А вечером мы пристали к рыбацкой деревне: белая с голубым, она распахивала двери колоколами гудящей церкви, благоухала соснами и смолой, приглашала в таверну, на вывеске которой скалила зубы женщина с ядовитыми локонами-змеями. Доносился шум голосов и тонкий девичий смех, металлом отзывался звон вилок и ножей. Иногда зубчик прибора неловко проскальзывал по тарелке, промахнувшись мимо щупальца осьминога, издавал протяжное «пли-и-и», вырвавшись из хора кухонной утвари, и тут же умолкал, не выдержав своей высокой ноты. Люди ели морских гадов и охлаждали горло белым вином, рвали руками булку с осыпавшейся кромкой, блестели жемчужинами зубов, засиявших на контрасте с загоревшей кожей, говорили об удивительном цвете моря и, пьяно выходя из-за стола, покачивались, задевали соседний столик и рассыпались в пышных извинениях.
Я пила ликёр с содовой, играла с котёнком, упруго прыгающим — скок-скок-скок — на неповоротливого жука, лениво следила взглядом за девочкой в синем платье-колокольчике и её чернобровым братом — выброшенные на берег островного вневременья, они кидали веточки и извилистой линией волокли по земле обрывок ленты, приманивая котёнка и наполняясь до краёв этим безыскусным и веселящим занятием.
И внутри становилось совсем хорошо: скамейка под соснами отдавала тепло уходящего четверга, солнце вишнёвой косточкой опускалось в кипящее море, и где-то над ухом цикада подрагивала брюшком, издавая щекочущий звук тамбурина.
Греческий вечер — поджаристый до корочки, переходил в душную ночь — вентилятор мельнично крутил лопасти, простыня липла к бёдрам, одна тень приблизилась к другой и на окне задёрнули штору.