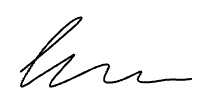Вторжение

Человек расслабился и поверил в миф о неприкосновенности. И в общем-то города действительно стали спокойнее, чем это было хотя бы двадцать лет назад. Это значит, что, идя по улице, ты можешь не держать руку на воображаемой кобуре, ожидая каждую минуту нападения. Всё хорошо, животные в клетках, а те, что гуляют, — в намордниках и на поводке. И на фоне этой кажущейся безопасности вторжение людей в личное пространство становится ещё страшнее, чем если бы мы жили на Диком Западе сто лет назад, где и ребёнок, и женщина, и ковбой одинаково хорошо справлялись с курком: сейчас ты перманентно расслаблен и не ждёшь подвоха, а лучше бы тебе быть начеку и зорко смотреть по сторонам.
К чему я? Сегодня испытала эмоции, которые как раз-таки и проистекают из этой сытой убеждённости в неприкосновенности личного пространства.
Перехожу улицу Чайковского, мне наперерез бросается парень. Униформа абсолютно петербургская: чёрная куртка, тёмные джинсы, такая же (то есть никакая) обувь. Если такой будет в подворотне убивать человека, проворачивая в сердце нож, не запомнишь ты его и не вспомнишь, чтобы внятно ответить на вопросы людей в грязной обуви и со знаками отличия на плечах.
Этот человек что-то кричит, жестикулируя у меня перед лицом, хмурит брови и дёргается телом. Вынимаю наушник (пардон, мсье): «Дай мне свой номер!» — требовательно, с напором и как-то безумно тараща глаза, произносит чернобровый.
Я отворачиваюсь, подхожу к будке с кофе, отстраняя его междометием «ага». Он снова вырастает передо мной: «Дай мне свой номер, а я тебе кое-что скажу». Он буквально напирает на меня, его руки вжаты в карманы куртки, и я, с каким-то сосущим внутренности ощущением, бегу взглядом по его глазам, к карманам и обратно. «Диктуй номер. Быстрее. Я спешу. Ты, диктуй номер, быстро. У меня нет телефона, но я запомню». Мой голос взвивается вверх, раздражённо и злобно на эту беспардонную экспансию: «Не буду ничего тебе диктовать, иди к чёрту». Безумец дёргается лицом, жуёт слова сквозь мясистый свой рот, жжёт меня глазами в глаза и стремглав бросается к светофору: припадок кончен, дела зовут.
А я остаюсь стоять около будки с кофе.
И знаете, мне чертовски мерзко и даже страшно. Только что белоснежный декабрьский день, который был вакуумом с установившимися в нём неспешностью, предсказуемостью, даже безмятежностью превратился в дьявольскую игрушку со вторым дном. Или нет. В куклу-урода с двумя лицами: одно не таит угрозы, послушно открываются-закрываются глаза, алеет нарисованный румянец на щёчках, губки бантиком изгибаются в приторной приветливой гримаске, но второе... Второе лицо — это мёртвенно-белый шар с той стороны, где находится затылок, он сокрыт паклей волос, и сквозь неё, если откинуть пальцами, глядит мразь: тонкогубая, сизая, с закатившимся одним глазом, вмятой резиновой щекой и длинным носом, который жадно втягивает воздух и нетерпеливо вздрагивает ноздрями, будто почуяв поблизости гниющую падаль.
Воздух вокруг меня — только что бывший чистым, морозным, режущим лёгкие — враз становится горьким, вязким, отравленным какой-то гнусью. На меня (без преувеличения) только что напали, прорвав кажущееся незыблемым личное пространство: секунду назад я чувствовала себя в безопасности своего мира и тут — неприятный треск, будто кофту на тебе рвут: «Здравствуйте, Настя, это я, другой человек, у меня есть на твой счёт мысли и желания. И плевать мне, что ты чувствуешь. Я буду стоять на расстоянии в поллоктя от тебя, сжимать кулаки в карманах и агрессивно требовать номер телефона в обмен на какую-то тайну. И я буду напирать на тебя, глухо бормотать чёрт знает что себе под нос и дёргаться всем телом. А ты будь воском в моих руках: ты же чувствуешь правоту силы и ощущаешь, что я недостаточно адекватен и в случае отказа могу и кулаком двинуть. В лицо».
И да, можно сказать, что я преувеличиваю. Конечно. Пока вы сами не столкнётесь с зыбкой сущностью своего мира (который меняется в какие-то ничтожные секунды) и не почувствуете, что некто — чужой, беспардонный, враждебный, считает вас всего лишь пешкой в своей партии, а значит, у него на вас все права.
И ничего с этим не сделать, не защититься декретами о всяких там личностях, безопасностях, понятиями сопереживания и участия. В один момент ты остаёшься один на один с действительностью и остаётся только страх и чувство, что земля под ногами проваливается.