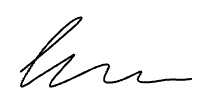Возвращение

После расставания есть два пути. Если ты не кончаешь с собой, остаётся смирение. Ещё раз: если вы остались живы, значит выбрали путь, ведущий обратно к себе.
Глава I
Ты помнишь, тогда был май, золотились улицы, терпкий запах сирени дурманил и кружил? Сплошной дождь хлестал по цветам и оставлял на них влажную бороздку — тонкую, нежную, совсем как на внутренней стороне твоей кисти. Над асфальтом волновался жар; изливаясь потоками, в трубах гудела вода; босые дети прыгали по лужам.
А помнишь, как в парадной, хранящей зимнюю мерзлоту, нас застала врасплох пожилая женщина — сухая и гибкая, как змея, в шелестящем узком платье и с низким вырезом на груди? Она вышла из квартиры, когда наши губы сомкнулись, а мои пальцы, преодолев сопротивление нескольких крючков и пуговиц, проникли за тонкий шёлк и прикоснулись к твоим бёдрам — упругим, бархатным, нежнее, чем ткань, прикрывающая их.
Нечаянная свидетельница нашей страсти прошла в паре сантиметров, обдавая душным запахом прогорклой помады и духов, я по-школьному раскраснелся, вжался в стену, но ты была спокойна. Тебя мало что могло смутить, если ты считала, что поступаешь правильно. «Когда нам хорошо, это не может быть плохо».
А помнишь, как всё вокруг казалось неслучайным, созданным только для нас? Наша восприимчивость обострилась, события ускорялись или замедлялись от одной прихоти, мы совпадали в желаниях и образах, которые их сопровождали. А помнишь… Нет, ты не можешь этого помнить. Ты не могла видеть себя со стороны. Это я любовался и сходил с ума от твоей кожи — тёплой, тронутой загаром, от завитка волос, запятой лёгшего на скулу, от чуть раскосых и грустных глаз.
И все «помнишь», рефреном звучащие в голове, они о совместном, разделённом на двоих прошлом; о чувствах, пережитых вместе, о вкусе немецкого вина, которое пили вдвоём, о мелькнувшем одновременно в обоих желании.
Наше прошлое не ослабевает и, питаясь моей неспособностью примириться с тем, что «нас» больше нет, всё ещё бьётся и пульсирует в крови. Я предчувствовал, что всё будет так, но когда знания от чего-то спасали? Знание ничто без проверки опытом, и сейчас, оставшись один на один со своими чувствами, я понимаю, что даже при самом настойчивом усилии воображения не смог бы представить всей скуки и безысходности состояния, которое определяется отсутствием тебя. Всё случилось: прекрасная музыка стихла, реальность опустела, как покинутый дом, и что теперь? Вновь поиск, неутолимая жажда, возвращение к себе прежнему, который будто и не знал тебя, не испытывал предельной насыщенности жизни и интенсивности проживания её событий?
Глава II

Я ступаю на обломки коралла, и кровь медленно сходится с водой, мешая свою соль с солью морской. Я теряю тебя, теряю. Волна набегает, выплёвывает меня на берег. Мелкие рыбёшки бросаются в стороны. Я поднимаюсь с колен и сажусь на песок.
Наша откровенность. Что с ней стало? Наша близость. Куда она ушла? Возможно, всё было куда проще, необязательнее; возможно, мои воспоминания — это помешательство без взаимности, попытка утвердить то, чего на деле не существовало? Это, конечно, может быть так, но свидетелем прошлого остаётся фотография с подписью на оборотной стороне, твои записки — страстные, повелительные, билеты на поезд, один из которых так и не пробил контролёр, и чувство, будто грудная клетка дымится и чадит. Я напоминаю тебе в телефонных разговорах — мучительных в своей бестолковости, пустых без надежды вызвать ответное чувство, — как мы держались за руки, пропадали друг в друге, а ты далёким голосом вторишь: «Да, я помню» — и, не беря пауз, с восторгом рассказываешь, как в городе, где ты теперь живёшь, снял целое палаццо известный эстрадный болтун. И, чувствуя лёгкость, с какой говорится о пустяках, я понимаю: твою душу подёрнула тень забвения. И без ненужных исповедей я подчиняюсь тебе и слушаю рассказ, который хочется прервать криком: «Неужели ты забыла, как ты смогла забыть?»
Потом ты прощаешься со мной, а я иду по каменной насыпи к дому — он светится в сумерках сентябрьского вечера, стёклами отражает блеск воды. Я валюсь на кровать, не раздеваясь и не смыв дневную пыль, извиваюсь на влажных от морского воздуха простынях и снова вижу, как ты, мягко покачивая бёдрами, идёшь по Л-ому проспекту. Твой силуэт утопает в золоте, на тебя оглядываются прохожие, а меня переполняет страсть: ты моя, ты со мной. В те дни я пытался отсрочить полную близость, а ты смеялась, говорила, что промедления глупы, когда оба хотят одного. Ты не понимала, что я наслаждался ожиданием, хотел продлить это мучительное и сладкое состояние, прежде чем уступить действительности, которая окажется ещё более прекрасной, чем фантазии и слова. Но когда мы наконец впервые остались наедине, ожидание подвело нас: я не выдержал напряжения, и мечты о часах наслаждения обернулись секундами сокрушительных схваток тела, которые невозможно унять.
Но всё это было тогда. До того, как ты мягко отстранилась, стала непонятной и недоступной, перестала подчиняться знакам и смыслам, которые нас объединяли. И пошла череда умолчаний, сорванных встреч и ссор: ты играла в непонимание, не замечала вопрошающих взглядов, попыток вернуть тебя в наш мир.
Я пустился по следу, искал в твоих интонациях отголоски чужой ласки, в уклончивых ответах ловил мысли о другом. И пока я давился ревностью, ты брала уроки фортепиано — как-то неистово, почти яростно вспоминая всё, чему тебя учили в школе. Ты ходила в бассейн, соревнуясь с подругой кто дольше продержится под водой, читала о бедах античных героев, кативших камень наверх и испытывающих неутолимую жажду. Ты начала жить отдельной от меня жизнью, а я перебирал воспоминания, вёл про себя бесконечный диалог с тобой и скорее почувствовал, чем понял: ты не была увлечена другим человеком, тебе чего-то недоставало в нас.
Потом было короткое сближение. Город трясло от толчков моего сердца, когда я шёл к тебе. В тот период не было нервозности и неловкости. Мы чувствовали право на обладание друг другом, всё время было нашим, и мы отдавались с одинаковой щедростью и ненасытностью.
Для окружающих мы выглядели как все влюблённые — с отсутствующими взглядами, живущие поцелуями, касаниями. Но вслед за близостью приходили минуты, когда ты смотрела на меня взглядом человека, который вернулся после долгой разлуки и ещё не знает, как вести себя с тем, кто некогда был ему дорог.
Я возвращался домой под утро, не мог спать и повторял в памяти всё, что пережил с тобой. Солнце медленно расцвечивало комнату, обои на стенах горели красным и голубым, пыль кружилась по углам, и, плывя в радужном рассвете, я каждый раз боялся, что минувшая ночь была последней. Затем наступал день — похожий на предыдущий, живущий ожиданием вечера, и мы снова были наедине, снова наслаждение, снова пропасть... Дни, прекрасные в своём однообразии, дни светлые, жаркие.
Город задыхался пылью, прохладой веяло от одной мысли о сияющей полоске воды на горизонте, и я мечтал, что мы поедем к морю, где ощущение нашего ликующего счастья станет беспредельным. Как-то я поднялся к тебе и, целуя тёмное пятнышко на плече, назвал остров — с лазоревой заводью и оливковыми деревьями, скалами и козами на высоких уступах, маленькой белёной церковью и телефонной будкой на главной площади — и предложил уехать, но ты уклонилась, отвела взгляд. И всё посыпалось, понеслось вниз. В твоих мыслях нам не было места. За спокойными словами возносились шпили имперских соборов, шумела Via Torino, в речи местных стрекотали «ч» и «ц», «мы ничего не планировали, я буду дальше заниматься музыкой», следовала фамилия знаменитого пианиста и твоё «уеду, уеду, уеду», эхом звучащее в ушах.
И снова были прогулки, блуждания по дворам и переулкам, поцелуи, просьбы, гаммы. Пальцы взлетали над клавишами, впуская в комнату звуки серенад, заглушавших мысли и обострявших чувства. Мы разговаривали о настоящем, ведь будущее уже не было нашим, ходили по дорожкам сада около твоего дома, не замечая, что каждый раз оказываемся вновь и вновь у старой липы. Я слушал твой низкий голос, уговаривал, любовался тобой в малиновых сумерках, спрашивал, уступал, а потом появился билет. Белый, с синим росчерком авиакомпании в правом углу и оттиском даты твоего бегства — метафора непоправимости в своём физическом воплощении. Мой поезд не поспел за твоим самолётом, линии разошлись в разные стороны.
Глава III

Последняя близость перед прощанием была мучительным движением вперёд — хотелось завладеть телом, мыслями, дорваться до глубин, стать тобой, чтобы почувствовать то, что чувствуешь ты, и вырваться, чтобы взять ещё больше; хотелось, чтобы организм стал вечной машиной, которая не остановится после судорог удовольствия, а продолжит свой сладострастный бег, в конце которого темнота. После твоего ухода в комнате остался запах духов — мускус, сладость цветов. Ветер рвал занавески, солнце дробилось на узорчатые ромбы, и всё было таким, каким оно было вчера, неделю назад, всегда. Но неизменность обстановки была мороком: из вещей вытянули суть.
Когда-то, и кажется, что уже очень давно, ты перебирала книги на столе, я настигал тебя в кровати, мы раздевались, и я входил в тебя; потом с крючка снимался халат и накидывался на влажное тело. Но этот круговорот событий закончился, и вещи, перестав быть символами, стали просто вещами. И теперь никто не ответит, зачем нужны стол, кровать, халат на крючке, если ты больше не коснёшься их, следуя по известному только нам двоим маршруту.
Затем был аэродром, неловкое прощание — именно таким оно бывает, когда происходит непоправимое, и трогательное общее «мы» делится на двоих и теперь уже посторонних людей. Хотелось что-то говорить, убеждать, спрашивать, но, вопреки чувству и боясь прозвучать фальшиво, я говорил одну нелепую шутку за другой. Да и что я мог сказать или сделать, чтобы ты не уехала? Всё было сказано и сделано. Всё, кроме самого нужного, — сказала бы ты. Но так у меня всегда получается, что самое важное не проговаривается, оно понимается поздно, когда сожаление перевешивает возможности, а тоска вытравливает мелкие чувства и обиды.
Впрочем, когда слова что-то меняли. Самолёт взлетает по расписанию, человек — узник своих представлений о себе и окружающих. Всё и всегда слишком поздно. Признания не делаются вовремя, встречи происходят для того, чтобы показать, как оба торопились, но не успели перехватить друг друга у быта, случая, рока, и только единственное, что можно сделать в срок, — последовать незамедлительно за движением души. И именно этого я не сделал, хотя знал, что ты уезжаешь. Снова высокая интонация чувств была снижена. И всё ради чего? Чтобы попытаться доказать, что не бывает бесповоротных действий и всё можно повторить сначала?
Глава IV

И снова волна выбрасывает воду на камни, на моё тело. Я думаю о слабости слов, пытаясь убедить себя в том, что моя нерешительность ничего не испортила, иначе и быть не могло. И не в силах сидеть в доме, где ты могла быть, но так и не появилась, я бросаюсь на улицу. Опять цокот спиц в колёсах, площадь, полуденный блеск телефонной будки. Скрежет диска с потускневшими цифрами, гудки, ты.
— Я никогда не чувствовал того, что чувствую с тобой. — Ты держишься за нас потому, что такое с тобой происходит в первый раз? — Ты важна и нужна мне, без этого всё получается неполным, недостаточным, ты понимаешь? — Я тебе верю. Но если бы этого было достаточно, если бы этим ограничивалась жизнь, отношения, будущее каждого из нас…
Глава V

Проходят дни, я перебираю воспоминания и изредка слышу в трубке твой голос — он раздаётся словно издалека, как шум моря, проникший сквозь толстые стены дома, в котором я теперь чувствую себя уже не так одиноко, не так неприкаянно. Под палящим солнцем наши драмы начали трескаться: я не бросаюсь обновлять их, не мешаю процессу разрушения.
Я думаю о наших нынешних натянутых диалогах, моих разговорах о прошлом. Приглушённые интонации в голосе того, кто спрашивает, и прохладная вежливость отвечающего: для одного прошлое влияет на настоящее, для другого — это просто события, которые были. Слушая тебя, я представляю, что приезжаю в город, где ты теперь живёшь, нахожу тебя, мы заходим на следующий круг, упиваемся друг другом… и ощущаю тупик, в который упирается моя мысль, невозможность двинуться вперёд, непреодолимую помеху для воображения.
Я начинаю понимать, и это знание печально, как всякое осознание чего-то бесповоротного, что бездумное погружение и безоглядная страсть невозможны там, где были эти месяцы, когда я не мог до тебя докричаться и пробить броню. Будто внутри что-то оборвалось и сшить это уже не получится. Это время будет моим постоянным напоминанием о нашем самом большом несовпадении, его не стереть, и ощущение, что между нами что-то не так, будет отравлять меня день за днём.
Я буду вглядываться в тебя, пытаться угадать твои мысли, предотвратить возможное предательство, ведь предательство — это не что иное, как внезапный отказ от прежней близости без объяснений, когда поступками и словами отрицается сам факт, что она вообще когда-либо существовала. Это уже будет не прежнее отдохновение друг в друге, а болезненное соглядатайство. Тот, кого однажды предали, не может быть прежним, и наша связь измельчает до мелких придирок и подозрений.
Глава VI

Я вновь выхожу на берег: белые камни раскалены, хлопает парус лодки. Натруженные спины рыбаков лоснятся под солнцем, над мысом сияет новый день. Утро в море, сети, полные рыбы: мы встали на рассвете, когда ещё не поднялся сухой жар. Кириакос сказал, что нас ждёт хороший улов фаггрии, и чутьё не подвело его: мы втаскивали на борт отяжелевшие неводы, в которых барахтались серебристо-оранжевые тела с красными хвостами, и целые сети аферины — её готовят в муке, обжаривая до золотистой корочки и поливая соком лимона.
На берегу всё те же кипарисы, от таверны поднимается дымок, стрекочут насекомые. Всё как вчера, когда я слышал по телефону твой голос и внутри скользнул холодок, но что-то изменилось.
Я думаю о тебе, и моё чувство будто опаздывает за действительностью, выпадает из неё, оставаясь в границах моей души. Любовь продолжает жить, но становится отдельным от тебя чувством, сугубо моим частным переживанием. Она пропитывается морем, бронзовеет под солнцем, и ей больше не требуется ответное движение другой души. Любовь замыкается в себе, в своём начале. К прежнему, к которому я взываю, уже не вернуться, а будущее невозможно в силу прошлого.
Я вижу твой силуэт, и он зыблется как сквозь линзу, потерявшую резкость; вспоминаю ощущение близости, мимику любимого лица, прогулки и разговоры, но эти образы живут отдельно от той, которая теперь говорит в нарочито бодром тоне. Будто ты перестала быть собой, будто та, которую я знал, больше не существует или же существует в мире с повышенной плотностью воздуха: не нащупать рукой, не разглядеть черт.
Грусть по тебе лишается тебя, и, возвращаясь по душевной привычке к прошлому, я перестаю бояться, что в моей жизни случилось главное чудо и оно ушло вместе с тобой. Действительность преображается, и вслед за этим вспоминается, что всё самое прекрасное в жизни обязано случайности. Непредсказуемому соединению событий и желаний. Непредвиденным встречам и совпадениям, как это уже бывало со мной, с нами.
Я ныряю в воду и чувствую, как напрягаются мускулы рук. Волна подхватывает меня, и я гребу вперёд — бездумно, наслаждаясь силой тела, его гибкостью. Я всё ещё не свободен от прошлого, но уже не жду от него весточки в будущем. Снова сильный рывок под воду — она темнеет в глазах, искрит в ушах, — и вновь свежесть воздуха на поверхности — между двух синих пропастей — морской и небесной.
Впереди долгая осень — гранатовые деревья пригнутся от тяжести драгоценных плодов к земле, зацветут лимонные рощи, запахнет померанцем и апельсином. Что-то снова начнётся, где-то вновь запрыгают босоногие дети по лужам и из квартиры выйдет женщина, застигнув двух влюблённых на лестнице.