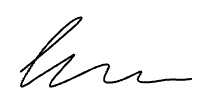Подворотни и дворы

В Тбилиси каждая встреченная на пути подворотня дышит, разговаривает и двигается. На лесках плещется по ветру бельё — простынь надувается парусом и плывёт в знойный тифлисский день. Толстая белая кошка купается в апрельской пыли — мордочка хитрая, движения томные. Подворотня в Тбилиси живая: мужчина примостился на табурете и читает потрёпанную книжицу, ребятня гоняет мяч и гомонит, старушки переговариваются через двор — каждая сидит на своём балкончике, увитом лозой винограда, и чеканит слова на незнакомом мне звонком языке. И углы, и стены, и парадные отмечены присутствием человека.
Если заглянуть во двор или арку в Петербурге, где-то между улицами Восстания и Некрасова, оттуда на тебя дохнёт сыростью и гнильём. Дворы стоят покинутыми — люди не используют их, торопятся побыстрее зайти в парадную, запертую от посторонних на тяжёлый магнитный замок, прячутся в квартирах. Позже это отсутствие коммуникации с внешним миром в ультимативной форме опишет Бродский. Но окна его квартиры выходили на просторную Преображенскую площадь, которая даже в 1970-е была место живым.
В Тбилиси из подворотен веет ветхостью и традицией. И как им это удалось сохранить — для меня большой вопрос. В России революция 1917 года порвала связи и уничтожила преемственность: многокомнатные квартиры расселили и «уплотнили»: на место аристократов вселили рабочих и «сочувствующих» революции, купеческие дома в деревнях сожгли, а где огонь не взял, там топор помог: вместо усадеб появились приюты, интернаты, клубы по интересам.
В Тбилиси, когда заглядываешь в окна первого этажа, видишь, как в потёртых интерьерах сидит большая грузинская семья. И кажется, что здесь точно же сидели потомки этих людей и двадцать лет назад, и пятьдесят, и восемьдесят. Петербургскую преемственность выкосила революция, эмиграция, блокада, эмиграция, разруха, эмиграция.
Стейнбек в «Гроздьях гнева» пишет, что земля стала мёртвой с тех пор, как человек перестал её мотыжить, а на красные поля штата Оклахома пришёл трактор. Он уподобляет вспахивание земли половому акту, эти описания чувственны и животны, они адресованы к человеку, который ещё не испорчен умствованием.
«За бороной сеялка — двенадцать железных детородных членов, выкованных на сталелитейном заводе, совокупляющихся с землей по велению механизмов, без любви, без страсти. Тракторист сидел на железном сиденье и гордился проложенными не по его воле прямыми бороздами, гордился чужим, не дорогим ему трактором, гордился силой, над которой он не был властен. А когда урожай созревал и его собирали, никто не разминал горячих комьев, никто не пересыпал землю между пальцами. Ничьи руки не касались этих семян, никто с трепетом не поджидал всходов. Люди ели то, что они не выращивали, между ними и хлебом не стало связующей нити. Земля рожала под железом — и под железом медленно умирала; ибо ее не любили, не ненавидели, не обращались к ней с молитвой, не слали ей проклятий».
У каждого народа — своя боль расставания с традицией, с прошлым. И в Грузии она тоже есть — неизвестная мне череда событий, которые раскололи семьи, унесли обычаи. Но как же иногда приятно бездумно поддаться магии тёплых подворотен: наблюдать за кружением пыльцы в воздухе, улавливать за стенами домов биение неведомой жизни.