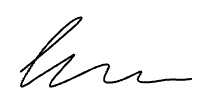Быковский «Июнь»

Пару месяцев назад прочитала последний роман Дмитрия Быкова и горячо рекомендую его всем, кто успел поставить жирный крест на современном русском романе.
Итак, «Июнь» — это три не пересекающиеся между собой повести, объединенные единством времени и места. События разворачиваются в Москве конца 30-х – начале 40-х годов — на фоне массовых репрессий и напряженной международной обстановки. Каждому из протагонистов романа грядущая война представляется единственным способом эмоциональной разрядки, к которой страна подходила начиная с 1934 года, с убийства Кирова в коридоре Смольного. Её отчаянно боятся, но в глубине души, — страшное дело —виновато ждут приближения.
Война по Быкову — это не только расплата за расчеловечивание, молчание, подхалимаж, трусость и подлость; это, ни много ни мало, отпущение грехов и нравственное благо, которое поможет очиститься: «Должна быть такая война, которая во что-то перерастет. Во время которой люди что-то вспомнят. Она должна быть очень огромная, очень. Очень страшная. Но только такая война сотрет все вот это, и с нее начнется новый мир. Уже навсегда».
Эта тема вины, очень важная быковская тема, которую он не единожды проигрывает в своих лекциях, в романе получает новое развитие. Ведь как получается: весь русский народ — как в настоящем, так и прошлом, несет на себе отпечаток общей вины и грешен в одном деле. Когда приходит беда, происходит людоедство (как символическое, так и буквальное, как в 30-е годы), все кругом виноваты, ибо никто не осмеливается противостоять, все молчат, выжидают, и все эти маленькие личные подлости, этот конформизм, моменты, когда нужно подать голос, а не смолчать, что-то сделать, вместо того, чтобы уползти в нору, ширятся, приобретают масштаб в размере целой страны, а личная ответственность превращается в общую вину, предательство, за которыми неминуемо последует воздаяние. Когда общество стремительно впадает в архаику, а взаимное мучительство становится нормой, должна произойти катастрофа. Всё чрезмерное (насилие ли, разврат ли) всегда приводит в итоге к одному — к грандиозному очистительному истреблению.
Роман Быкова — это захватывающее путешествие по сталинской эпохе, для описания которой используется на редкость удачный, выверенный слог. Так, специфический «советский» язык с его ходульностью и грубостью, иногда излишней патетичностью и наивностью, который мастерски (не перебарщивая) использует автор, не смотрится пародией, это органичный метод трансляции духа эпохи, и он затягивает как водоворот — книга читается взапой, как обычно и читаются хорошо сделанные вещи.
Кроме художественно-изобразительных средств, коими интересен «Июнь», роман любопытен своими культурными и литературными аллюзиями. Это и реминисценции к известным (и не очень) поэтам и писателям советской эпохи, которые автор дает впроброс, и отсылки к своим же лекциям. Шутка ли —некоторые абзацы слово в слово повторяют то, что Дмитрий Львович рассказывал об организации текста в отечественной литературе или о персонажах-трикстерах — теме, которая с его подачи теперь катит девятым валом по сайтам, связанным со словесностью.
Опять же, читая роман, не стоит забывать, как часто Быков повторяет, что сегодняшняя Россия во многом похожа на свою предшественницу конца 30-х годов. Это важный момент, который помогает понять авторские интенции, разобраться, почему именно этот период отечественной историй был выбран в качестве декорации.
Опять же Быков не был Быковым, если бы не использовал на полную свой увесистый литературоведческий багаж. «Июнь», с вшитым в него культурным кодом, рассчитан, прежде всего, на зоркого и образованного читателя. Намекая и без устали проводя параллели, Быков уплотняет ткань романа и заодно вызывает у читателя приятное чувство сообщничества (ах, как приятно находить в романе ключи и знать, к какой скважине они подходят).
Читателю, не знающему контекст или невнимательному, этот литературоведческий багаж сваливается с антресолей прямо на темечко и ничего не оставляет, кроме разве что синяков, полученных от плотно утрамбованного синтаксиса, а перед человеком, разбирающимся в биографиях и именах советской литературы, открывается как ларчик. Мотивы трагической жизни Ариадны Эфрон — дочери Марины Цветаевой, вернувшейся из французской эмиграции в СССР в самые жгучие времена и в 1939-м и осуждённой по знаменитой 58-ой статье, используются во второй части романа в качестве «подложки» для персонажа, и, зная это, роман воспринимаешь как биографию: описания советского быта образца 30-х, ИФЛИ, комсомола и собраний, партийных чисток и арестов — это не выдуманные сюжеты, а осколки истории, и эти осколки ранят сильнее, чем самая искусная выдумка.
Что до сюжетных перипетий, в «Июне» нет брызжущих кровью рассказов о пытках в застенках НКВД, автор дистанцируется от описаний жизни лагерников и других теневых сторон жизни советского человека, а если они и угадываются за жизнеописаниями героев, то это только тонкий абрис, намёк. Важно ведь не описать кровь и пытки, а то, что к ним привело, какая создалась атмосфера — душная, как перед грозой, которая скоро разразится и уничтожит всё вокруг.
Фото: meduza.io